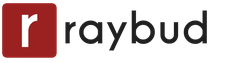Что делать 4 сон веры павловны читать. Сны Веры Павловны (из романа Что делать?, Н. Г. Чернышевского). Вера. Новые сны
Общество будущего показано в романе в четвёртом сне Веры Павловны. Человек будущего, предсказывает Чернышевский, переделает природу при помощи чудесных машин. Он заставит природу служить себе, навеки освободится от «власти земли» над собой, сбросит с себя зависимость от стихийных сил природы.
Труд перестанет быть тяжёлым и позорным бременем, станет лёгким и радостным, ибо все тяжёлые работы будут делать машины. Труд станет естественной потребностью и наслаждением для человека. Люди будущего, предсказывает Чернышевский, превратят пустыни в плодородные земли, покроют садами голые скалы, пророют грандиозные каналы. Навсегда исчезнет противоположность между умственным и физическим трудом. Человек будущего, освобождённый от нужды и забот, станет всесторонне развитым существом, сможет полностью раскрыть все богатства своей натуры. Люди будущего цветут здоровьем и силой, они стройны и грациозны, они не рабы машин, а творцы и созидатели.
Они - музыканты, поэты, философы, учёные, артисты, но они же работают на полях и заводах, управляют совершенными, ими созданными машинами. «Все они - счастливые красавцы и крас!авицы, ведущие вольную жизнь труда и наслаждения».
Рисуя победу социализма в России, Чернышевский в то же время предсказывает неизбежное торжество его во всём мире, когда будут сметены все искусственные границы между народами и каждый человек станет желанным гостем и полноправным хозяином в любом месте земного шара. Тогда исчезнет всякое угнетение человека человеком, наступит «для всех вечная весна и лето, вечная радость».
С глубокой проницательностью предвидел Чернышевский, что социализм раскрепостит женщину от домашнего рабства, что общество возьмёт на себя значительную долю забот о воспитании подрастающего поколения и обеспечении стариков. Он верил, что сменится всего несколько поколений, и социализм победит в России и во всем мире. Гениальное предвидение Н. Г. Чернышевского сбылось в наше время: многие страны Европы и Азии приступили к построению социалистического общества, следуя великому примеру советского народа, построившего социализм и идущего к коммунизму. «Будущее светло и прекрасно»,- неустанно повторял Чернышевский и страстно звал к борьбе за него: «Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте”"ег”67 переносите из него в настоящее;” сколько можете перенести: “настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умеете перенести в неё из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее всё, что можете перенести».
Основные герои русской классической литературы предшествовавшей Чернышевскому,-«лишние люди». Онегин, Печорин, Бельтов, Рудин. Обломов при всём различии между собой сходны в одном: все они, по словам Герцена, «умные ненужностн», «титаны слова и пигмеи дела», натуры раздвоенные, страдающие от вечного разлада между сознанием и волей, мыслью и делом, - от нравственного изнурения. Не таковы герои Чернышевского. Его «новые люди» знают, что им нужно делать, и умеют осуществить свои замыслы, у них мысль неотделима от дела, они не знают разлада между сознанием и волей. Герои Чернышевского - творцы новых отношений между людьми, носители новой морали. Эти новые люди находятся в центре внимания автора, они - главные герои ромайа; поэтому уже к концу второй главы романа «отпускаются со сцены» такие представители старого мира, как Марья Алеюсеевна, Сторешников, Жюли,
Роман был начат в декабре 1862 г. и закончен через четыре месяца. Первые главы его появились ещё в мартовской книге «Современника» за 1863 г., остальные же - в апрельском и майском номерах журнала за тот же 1863 г. Роман, прошёл двойную цензуру. Сначала...
Камнем преткновения для многих читателей романа «Что делать?» являются сны Веры Павловны. Их трудно бывает понять, особенно в тех случаях, когда из цензурных соображений Чернышевский высказал свои идеи в слишком аллегорической форме. Но один из образов,...
Очень важный персонаж романа, ему посвящена глава "Особенный человек". Сам он родом из знатной богатой семьи, но ведет аскетичный образ жизни. К моменту действия, обозначенного в романе, Р. 22 года. Студентом он стал в 16 лет, учился на естественном...
“Я вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам Бог любимой быть другим...” А. С. Пушкин Когда я стала подробно разбирать роман Н. Г. Чернышевского по содержанию, у меня получилось три полочки. На одной - стоят нравственные взаимоотношения...
Константин Колонтаев "Четвертый сон Веры Павловны", который так же можно назвать геноцидным, как доселе неизвестный прогноз Н. Г. Чернышевским о безжалостном Глобальном Шествии Русского Прогресса, агрессивная и безжалостная программа создания Глобального Коммунизма - исключительно русскими и только для русских
"Вера Павловна, вместо того,
что бы спать с Рахметовым,
спит одна и видит
свой Четвертый Сон" (Строка одного из сочинений
советской старшеклассницы брежневской эпохи)
Малоизвестная сторона научного и литературного творчества Чернышевского, в романе "Что делать?" и конкретно в его разделе "Четвёртый сон Веры Павловны" - это русский национал - коммунистический глобализм, который согласно Чернышевскому козначает, что коммунизм возможен только в глобальном масштабе (это как у Маркса и Энгельса), но создадут его только русские и только они будут пользоваться его плодами оставшись единственным народом на планете Земля.
Если, судить по "Четвёртому сну Веры Павловны, то результат всякого Прогресса - это Геноцид. Прежние народы - погибают (уничтожаются, вымирают, изменяются), вместе со своей культурой. Как сказал Чингизхан: "Недостаточно, чтобы я победил. Другие должны быть повергнуты". Так что, никаких - "Ни шагу назад!", никаких - "Умрём, но не отступим!". Вообще: никаких "умрём". Только - "Убьём".
И, так согласно Чернышевскому, глобальное коммунистическое будущее - светло и прекрасно. Но, только для русских, которые останутся в том будущем единственным народом на планете Земля.
И так, что согласно этой концепции Чернышевского, увидела в своём "Четвёртом сне" главная героиня этого романа Вера Павловна:
"Цветы завяли; листья начинают падать с деревьев; картина становится уныла.
- "Видишь, на это скучно было бы смотреть, тут было бы скучно жить, говорит младшая сестра, - я так не хочу". - "Залы пусты, на полях и в садах тоже нет никого, - говорит старшая сестра, - я это устроила по воле своей сестры царицы". - "Неужели дворец в самом деле опустел?" - "Да, ведь здесь холодно и сыро, зачем же быть здесь? Здесь из двух тысяч человек осталось теперь десять - двадцать человек оригиналов, которым на этот раз показалось приятным разнообразием остаться здесь, в глуши, в уединении, посмотреть на северную осень. Через, несколько времени, зимою, здесь будут беспрестанные смены, будут приезжать маленькими партиями любители зимних прогулок, провести здесь несколько дней по-зимнему".
- "Но где ж они теперь?" - "Да везде, где тепло и хорошо, вы сами на 7 - 8 плохих месяцев вашего года уезжаете на юг, - кому куда приятнее. Но есть у вас на юге и особая сторона, куда уезжает главная масса ваша. Эта сторона так и называется "Новая Россия".
- "Это где Одесса и Херсон?" - "Нет это в твое время, а теперь, смотри, вот где Новая Россия". Горы, одетые садами; между гор узкие долины, широкие равнины. "Эти горы были прежде голые скалы, - говорит старшая сестра. - Теперь они покрыты толстым слоем земли, и на них среди садов растут рощи самых высоких деревьев: внизу во влажных ложбинах плантации кофейного дерева; выше финиковые пальмы, смоковницы; виноградники перемешаны с плантациями сахарного тростника; на нивах есть и пшеница, но больше рис - Что ж это за земля? - Поднимемся на минуту повыше, ты увидишь ее границы".
Судя по дальнейшему описанию, Небесная Царица подымает Веру Павловну на одну из высших точек горного массива Голаны (Голанские высоты) на стыке границ нынешних Сирии, Ливана и Израиля.
Ну а дальше идёт такое описание: "На далеком северо - востоке две реки, которые сливаются вместе (примечание -соответствует Тигру и Ефрату) прямо на востоке от того места, с которого смотрит Вера Павловна; дальше к югу, все в том же юго - восточном направлении, длинный и широкий залив (примечание - Персидский залив); на юге далеко идет земля, расширяясь все больше к югу между этим заливом и длинным узким заливом, составляющим ее западную границу (примечание - Аравийский полуостров). Между западным узким заливом и морем, которое очень далеко на северо-западе, узкий перешеек (примечание - Синайский полуостров).
Но мы в центре пустыни? - говорит изумленная Вера Павловна. (примечание - Аравийская пустыня)
Да, в центре бывшей пустыни; а теперь, как видишь, все пространство с севера, от той большой реки на северо-востоке, уже обращено в благодатнейшую землю, в землю такую же, какою была когда-то и опять стала теперь та полоса по морю на север от нее, про которую говорилось в старину, что она "кипит молоком и медом". Мы не очень далеко, ты видишь, от южной границы возделанного пространства, горная часть полуострова еще остается песчаною, бесплодною степью, какою был в твое время весь полуостров; с каждым годом люди, вы русские, все дальше отодвигаете границу пустыни на юг. Другие работают в других странах: всем и много места, и довольно работы, и просторно, и обильно. Да, от большой северо - восточной реки (примечание - слияние Тигра и Ефрата), все пространство на юг до половины полуострова зеленеет и цветет, по всему пространству стоят, как на севере, громадные здания в трех, в четырех верстах друг от друга, будто бесчисленные громадные шахматы на исполинской шахматнице. Спустимся к одному из них - говорит старшая сестра.
Такой же хрустальный громадный дом, но колонны его белые. - Они потому из алюминия, - говорит старшая сестра, - что здесь ведь очень тепло, белое меньше разгорячается на солнце, что несколько дороже чугуна, но по-здешнему удобнее". Но вот что они еще придумали: на дальнее расстояние кругом хрустального дворца идут ряды тонких, чрезвычайно высоких столбов, и на них, высоко над дворцом, над всем дворцом и на, полверсты вокруг него растянут белый полог. Он постоянно обрызгивается водою, - говорит старшая сестра: видишь, из каждой колонны подымается выше полога маленький фонтан, разлетающийся дождем вокруг, поэтому жить здесь прохладно; ты видишь, они изменяют температуру, как хотят.
А кому нравится зной и яркое здешнее солнце?
Ты видишь, вдали есть павильоны и шатры. Каждый может жить, как ему угодно, я к тому веду, я все для этого только и работаю.
Значит, остались и города для тех, кому нравится в городах?
Не очень много таких людей; городов осталось меньше прежнего, - почти только для того, чтобы быть центрами сношений и перевозки товаров, у лучших гаваней, в других центрах сообщений, но эти города больше и великолепнее прежних; все туда ездят на несколько дней для разнообразия; большая часть их жителей беспрестанно сменяется, бывает там для труда, на недолгое время.
Но кто хочет постоянно жить в них?
И снится Вере Павловне сон, будто: Доносится до нее знакомый, — о, какой знакомый теперь! — голос издали, ближе, ближе, — И видит Вера Павловна, что это так, все так... Золотистым отливом сияет нива; покрыто цветами поле, развертываются сотни, тысячи цветов на кустарнике, опоясывающем поле, зеленеет и шепчет подымающийся за кустарником лес, и он весь пестреет цветами; аромат несется с нивы, с луга, из кустарника, от наполняющих лес цветов; порхают по веткам птицы, и тысячи голосов несутся от ветвей вместе с ароматом; и за нивою, за лугам, за кустарником, лесом опять виднеются такие же сияющие золотом нивы, покрытые цветами луга, покрытые цветами кустарники до дальних гор, покрытых лесом, озаренным солнцем, и над их вершинами там и здесь, там и здесь, светлые, серебристые, золотистые, пурпуровые, прозрачные облака своими переливами слегка оттеняют по горизонту яркую лазурь; взошло солнце, радуется и радует природа, льет свет и теплоту, аромат и песню, любовь и нету в грудь, льется песня радости и неги, любви и добра из, груди — «О земля! о нега! о любовь! о любовь, золотая, прекрасная, как утренние облака над вершинами тех гор!» — Теперь ты знаешь меня? Ты знаешь, что я хороша? Но ты не знаешь, никто из вас еще не знает меня во всей моей красоте. Смотри, что было, что теперь, что будет. Слушай и смотри: У подошвы горы, на окраине леса, среди цветущих кустарников высоких густых аллей воздвигся дворец. — Идем туда. Они идут, летят. Роскошный пир. Пенится в стаканах вино; сияют глаза пирующих. Шум и шепот под шум, смех и тайком пожатие руки, и порою украдкой неслышный поцелуй. — «Песню! Песню! Без песни не полно веселие!» И встает поэт. Чело и мысль его озарены вдохновением, ему говорит свои тайны природа, ему раскрывает свой смысл история, и жизнь тысячелетий проносится в его песне рядом картин.1
Звучат слова поэта, и возникает картина. Шатры номадов. Вокруг шатров пасутся овцы, лошади, верблюды. Вдали лес олив и смоковниц. Еще дальше, дальше, на краю горизонта к северо-западу, двойной хребет высоких гор. Вершины гор покрыты снегом, склоны их покрыты кедрами. Но стройнее кедров эти пастухи, стройнее пальм их жены, и беззаботна их жизнь в ленивой неге: у них одно дело — любовь, все дни их проходят, день за днем, в ласках и песнях любви. — Нет, — говорит светлая красавица, — это не обо мне. Тогда меня не было. Эта женщина была рабыня. Где нет равенства, там нет меня. Ту царицу звали Астарта. Вот она. Роскошная женщина. На руках и на ногах ее тяжелые золотые браслеты; тяжелое ожерелье из перлов и кораллов, оправленных золотом, на ее шее. Ее волоса увлажнены миррою. Сладострастие и раболепство в ее лице, сладострастие и бессмыслие в ее глазах. «Повинуйся твоему господину; услаждай лень его в промежутки набегов; ты должна любить его, потому что он купил тебя, и если ты не будешь любить его, он убьет тебя», — говорит она женщине, лежащей перед нею во прахе. — Ты видишь, что это не я, — говорит красавица.2
Опять звучат вдохновенные слова поэта. Возникает новая картина. Город. Вдали на севере и востоке горы; вдали на востоке и юге, подле на западе — море. Дивный город. Не велики в нем домы и не роскошны снаружи. Но сколько в нем чудных храмов! Особенно на холме, куда ведет лестница с воротами удивительного величия и красоты: весь холм занят храмами и общественными зданиями, из которых каждого одного было бы довольно ныне, чтобы увеличить красоту и славу великолепнейшей из столиц. Тысячи статуй в этих храмах и повсюду в городе — статуи, из которых одной было бы довольно, чтобы сделать музей, где стояла бы она, первым музеем целого мира. И как прекрасен народ, толпящийся на площадях, на улицах: каждый из этих юношей, каждая из этих молодых женщин и девушек могли бы служить моделью для статуи. Деятельный, живой, веселый народ, народ, вся жизнь которого светла и изящна. Эти домы, не роскошные снаружи, — какое богатство изящества и высокого уменья наслаждаться показывают они внутри: на каждую вещь из мебели и посуды можно залюбоваться. И все эти люди, такие прекрасные, так умеющие понимать красоту, живут для любви, для служения красоте. Вот изгнанник возвращается в город, свергнувший его власть: он возвращается затем, чтобы повелевать, — все это знают. Что ж ни одна рука не поднимается против него? На колеснице с ним едет, показывая его народу, прося народ принять его, говоря народу, что она покровительствует ему, женщина чудной красоты даже среди этих красавиц, — и, преклоняясь перед ее красотою, народ отдает власть над собою Пизистрату, ее любимцу. Вот суд; судьи — угрюмые старики: народ может увлекаться, они не знают увлеченья. Ареопаг славится беспощадною строгостью, неумолимым нелицеприятием: боги и богини приходили отдавать свои дела на его решение. И вот должна явиться перед ним женщина, которую все считают виновной в страшных преступлениях: она должна умереть, губительница Афин, каждый из судей уже решил это в душе; является перед ними Аспазия, эта обвиненная, и они все падают перед нею на землю и говорят: «Ты не можешь быть судима, ты слишком прекрасна!» Это ли не царство красоты? Это ли не царство любви? — Нет, — говорит светлая красавица, — меня тогда не было. Они поклонялись женщине, но не признавали ее равною себе. Они поклонялись ей, но только как источнику наслаждений; человеческого достоинства они еще не признавали в ней! Где нет уважения к женщине, как к человеку, там нет меня. Ту царицу звали Афродита. Вот она. На этой царице нет никаких украшений, — она так прекрасна, что ее поклонники не хотели, чтоб она имела одежду, ее дивные формы не должны быть скрыты от их восхищенных глаз. Что говорит она женщине, почти такой же прекрасной, как сама она, бросающей фимиам на ее алтарь? «Будь источником наслаждения для мужчины. Он господин твой. Ты живешь не для себя, а для него». И в ее глазах только нега физического наслаждения. Ее осанка горда, в ее лице гордость, но гордость только своею физическою красотою. И на какую жизнь обречена была женщина во время царства ее? Мужчина запирал женщину в гинекей, чтобы никто, кроме его, господина, не мог наслаждаться красотою, ему принадлежащею. У ней не было свободы. Были у них другие женщины, которые называли себя свободными, но они продавали наслаждение своею красотою, они продавали свою свободу. Нет, и у них не было свободы. Эта царица была полурабыня. Где нет свободы, там нет счастия, там нет меня.3
Опять звучат слова поэта. Возникает новая картина. Арена перед замком. Кругом амфитеатр с блистательной толпою зрителей. На арене рыцари. Над ареною, на балконе замка сидит девушка. В ее руке шарф. Кто победит, тому шарф и поцелуй руки ее. Рыцари бьются насмерть. Тоггенбург победил. «Рыцарь, я люблю вас, как сестра. Другой любви не требуйте. Не бьется мое сердце, когда вы приходите, — не бьется оно, когда вы удаляетесь». — «Судьба моя решена», — говорит он и плывет в Палестину. По всему христианству разносится слава его подвигов. Но он не может жить, не видя царицу души своей. Он возвращается, он не нашел забвенья в битвах. «Не стучитесь, рыцарь: она в монастыре». Он строит себе хижину, из окон которой, невидимый ей, может видеть ее, когда она поутру раскрывает окно своей кельи. И вся жизнь его — ждать, пока явится она у окна, прекрасная, как солнце; нет у него другой жизни, как видеть царицу души своей, и не было у него другой жизни, пока не иссякла в нем жизнь; и когда погасла в нем жизнь, он сидел у окна своей хижины и думал только одно: увижу ли ее еще? — Это уж вовсе, вовсе не обо мне, — говорит светлая красавица. — Он любил ее, пока не касался к ней. Когда она становилась его женою, она становилась его подданною; она должна была трепетать его; он запирал ее; он переставал любить ее. Он охотился, он уезжал на войну, он пировал с своими товарищами, он насиловал своих вассалок, — жена была брошена, заперта, презрена. Ту женщину, которой касался мужчина, этот мужчина уж не любил тогда. Нет, тогда меня не было. Ту царицу звали «Непорочностью». Вот она. Скромная, кроткая, нежная, прекрасная, — прекраснее Астарты, прекраснее самой Афродиты, но задумчивая, грустная, скорбящая. Перед нею преклоняют колена, ей подносят венки роз. Она говорит: «Печальная до смертной скорби душа моя. Меч пронзил сердце мое. Скорбите и вы. Вы несчастны. Земля — долина плача». — Нет, нет, меня тогда не было, — говорит светлая красавица.4
Нет, те царицы были непохожи на меня. Все они еще продолжают царствовать, но царства всех их падают. С рождением каждой из них начинало падать царство прежней. И я родилась только тогда, когда стало падать царство последней из них. И с тех пор как я родилась, царства их стали падать быстро, быстро, и они вовсе падут, — из них следующая не могла заменить прежних, и они оставались при ней. Я заменяю всех, они исчезнут, я одна останусь царствовать над всем миром. Но они должны были царствовать прежде меня; без их царств не могло прийти мое. Люди были как животные. Они перестали быть животными, когда мужчина стал ценить в женщине красоту. Но женщина слабее мужчины силою; а мужчина был груб. Все тогда решалось силою. Мужчина присвоил себе женщину, красоту которой стал ценить. Она стала собственностью его, вещью его. Это царство Астарты. Когда он стал более развит, он стал больше прежнего ценить ее красоту, преклонился перед ее красотою. Но ее сознание было еще не развито. Он ценил только в ней красоту. Она умела думать еще только то, что слышала от него. Он говорил, что только он человек, она не человек, и она еще видела в себе только прекрасную драгоценность, принадлежащую ему, — человеком она не считала себя. Это царство Афродиты. Но вот начало в ней пробуждаться сознание, что и она человек. Какая скорбь должна была обнять ее и при самом слабом появлении в ней мысли о своем человеческом достоинстве! Ведь она еще не была признаваема за человека. Мужчина еще не хотел иметь ее иною подругою себе, как своею рабынею. И она говорила: я не хочу быть твоею подругою! Тогда страсть к ней заставляла его умолять и смиряться, и он забывал, что не считает ее человеком, и он любил ее, недоступную, неприкосновенную, непорочную деву. Но лишь только верила она его мольбе, лишь только он касался ее — горе ей! Она была в руках его, эти руки были сильнее ее рук, а он был груб, и он обращал ее в свою рабыню и презирал ее. Горе ей! Это скорбное царство девы. Но шли века; моя сестра, — ты знаешь ее? — та, которая раньше меня стала являться тебе, делала свое дело. Она была всегда, она была прежде всех, она уж была, как были люди, и всегда работала неутомимо. Тяжел был ее труд, медлен успех, но она работала, работала, и рос успех. Мужчина становился разумнее, женщина тверже и тверже сознавала себя равным ему человеком — и пришло время, родилась я. Это было недавно, о, это было очень недавно. Ты знаешь ли, кто первый почувствовал, что я родилась, и сказал это другим? Это сказал Руссо в «Новой Элоизе». В ней, от него люди в первый раз услышали обо мне. И с той поры мое царство растет. Еще не над многими я царица. Но оно быстро растет, и ты уже предвидишь время, когда я буду царствовать над всею землею. Только тогда вполне почувствуют люди, как я хороша. Теперь те, кто признают мою власть, еще не могут повиноваться всей моей воле. Они окружены массою, неприязненною всей моей воле. Масса истерзала бы их, отравила бы их жизнь, если б они знали и исполняли всю мою волю. А мне нужно счастье, я не хочу никаких страданий, и я говорю им: не делайте того, за что вас стали бы мучить; знайте мою волю теперь лишь настолько, насколько можете знать ее без вреда себе. — Но я могу знать всю тебя? — Да, ты можешь. Твое положение очень счастливое. Тебе нечего бояться. Ты можешь делать все, что захочешь. И если ты будешь знать всю мою волю, от тебя моя воля не захочет ничего вредного тебе: тебе не нужно желать, ты не будешь желать ничего, за что стали бы мучить тебя не знающие меня. Ты теперь вполне довольна тем, что имеешь; ни о чем другом, ни о ком другом ты не думаешь и не будешь думать. Я могу открыться тебе вся. — Назови же мне себя, ты назвала мне прежних цариц, себя ты еще никогда не называла мне. — Ты хочешь, чтобы я назвала себя? Смотри на меня, слушай меня.5
— Смотри на меня, слушай меня. Ты узнаешь ли мой голос? Ты узнаешь ли лицо мое? Ты видела ли лицо мое? Да, она еще не видела лица ее, вовсе не видела ее. Как же ей казалось, что она видит ее? Вот уж год, с тех пор как она говорит с ним, с тех пор как он смотрит на нее, целует ее, она так часто видит ее, эту светлую красавицу, и красавица не прячется от нее, как она не прячется от него, она вся является ей. — Нет, я не видела тебя, я не видела лица твоего; ты являлась мне, я видела тебя, но ты окружена сиянием, я не могла видеть тебя, я видела только, что ты прекраснее всех. Твой голос, я слышу его, но я слышу только, что твой голос прекраснее всех. — Смотри же, для тебя, на эту минуту, я уменьшаю сиянье моего ореола, и мой голос звучит тебе на эту минуту без очаровательности, которую я всегда даю ему; на минуту я для тебя перестаю быть царицею. Ты видела, ты слышала? Ты узнала? Довольно, я опять царица, и уже навсегда царица. Она опять окружена всем блеском своего сияния, и опять голос ее невыразимо упоителен. Но на минуту, когда она переставала быть царицею, чтобы дать узнать себя, неужели это так? Неужели это лицо видела, неужели этот голос слышала Вера Павловна? — Да, — говорит царица, — ты хотела знать, кто я, ты узнала. Ты хотела узнать мое имя, у меня нет имени, отдельного от той, которой являюсь я, мое имя — ее имя; ты видела, кто я. Нет ничего выше человека, нет ничего выше женщины. Я та, которой являюсь я, которая любит, которая любима. Да, Вера Павловна видела: это она сама, это она сама, но богиня. Лицо богини ее самой лицо, это ее живое лицо, черты которого так далеки от совершенства, прекраснее которого видит она каждый день не одно лицо; это ее лицо, озаренное сиянием любви, прекраснее всех идеалов, завещанных нам скульпторами древности и великими живописцами великого века живописи, да, это она сама, но озаренная сиянием любви, она, прекраснее которой есть сотни лиц в Петербурге, таком бедном красотою, она прекраснее Афродиты Луврской, прекраснее доселе известных красавиц. — Ты видишь себя в зеркале такою, какая ты сама по себе, без меня. Во мне ты видишь себя такою, какою видит тебя тот, кто любит тебя. Для него я сливаюсь с тобою. Для него нет никого прекраснее тебя; для него все идеалы меркнут перед тобою. Так ли? Так, о, так!6
Теперь ты знаешь, кто я; узнай, что я... Во мне наслаждение чувства, которое было в Астарте: она родоначальница всех нас, других цариц, сменявших ее. Во мне упоение созерцанием красоты, которое было в Афродите. Во мне благоговение перед чистотою, которое было в «Непорочности». Но во мне все это не так, как было в них, а полнее, выше, сильнее. То, что было в «Непорочности», соединяется во мне с тем, что было в Астарте, и с тем, что было в Афродите. И, соединяясь во мне с другими силами, каждая из этих сил становится могущественнее и лучше от союза. Но больше, еще гораздо больше могущества и прелести дается каждой из этих сил во мне тем новым, что есть во мне, чего не было ни в одной из прежних цариц. Это новое во мне то, чем я отличаюсь от них, — равноправность любящих, равное отношение между ними, как людьми, и от этого одного нового все во мне много, о, много прекраснее, чем было в них. Когда мужчина признает равноправность женщины с собою, он отказывается от взгляда на нее, как на свою принадлежность. Тогда она любит его, как он любит ее, только потому, что хочет любить, если же она не хочет, он не имеет никаких прав над нею, как и она над ним. Поэтому во мне свобода. От равноправности и свободы и то мое, что было в прежних царицах, получает новый характер, высшую прелесть, прелесть, какой не знали до меня, перед которой ничто всё, что знали до меня. До меня не знали полного наслаждения чувства, потому что без свободного влечения обоих любящих ни один из них не имеет светлого упоения. До меня не знали полного наслаждения созерцанием красоты, потому что, если красота открывается не по свободному влечению, нет светлого упоения ее созерцанием. Без свободного влечения и наслаждение и восхищение мрачны перед тем, каковы они во мне. Моя непорочность чище той «Непорочности», которая говорила только о чистоте тела: во мне чистота сердца. Я свободна, потому во мне нет обмана, нет притворства: я не скажу слова, которого не чувствую, я не дам поцелуя, в котором нет симпатии. Но то, что во мне новое, что дает высшую прелесть тому, что было в прежних царицах, оно само по себе составляет во мне прелесть, которая выше всего. Господин стеснен при слуге, слуга стеснен перед господином; только с равным себе вполне свободен человек. С низшим скучно, только с равным полное веселье. Вот почему до меня и мужчина не знал полного счастья любви; того, что он чувствовал до меня, не стоило называть счастьем, это было только минутное опьянение. А женщина, как жалка была до меня женщина! она была тогда подвластным, рабствующим лицом; она была в боязни, она до меня слишком мало знала, что такое любовь: где боязнь, там нет любви... Поэтому, если ты хочешь одним словом выразить, что такое я, это слово — равноправность. Без него наслаждение телом, восхищение красотою скучны, мрачны, гадки; без него нет чистоты сердца, есть только обман чистотою тела. Из него, из равенства, и свобода во мне, без которой нет меня. Я все сказала тебе, что ты можешь сказать другим, все, что я теперь. Но теперь царство мое еще мало, я еще должна беречь своих от клеветы не знающих меня, я еще не могу высказывать всю мою волю всем. Я скажу ее всем, когда мое царство будет над всеми людьми, когда все люди будут прекрасны телом и чисты сердцем, тогда я открою им всю мою красоту. Но ты, твоя судьба, особенно счастлива; тебя я не смущу, тебе я не поврежу, сказавши, чем буду я, когда не немногие, как теперь, а все будут достойны признавать меня своею царицею. Тебе одной я скажу тайны моего будущего. Клянись молчать и слушай.7
........................................................
8
— О любовь моя, теперь я знаю всю твою волю; я знаю, что она будет; но как же она будет? Как тогда будут жить люди? — Я одна не могу рассказать тебе этого, для этого мне нужна помощь моей старшей сестры, — той, которая давно являлась тебе. Она моя владычица и слуга моя. Я могу быть только тем, чем она делает меня; но она работает для меня. Сестра, приди на помощь. Является сестра своих сестер, невеста своих женихов. — Здравствуй, сестра, — говорит она царице, — здесь и ты, сестра? — говорит она Вере Павловне. — Ты хочешь видеть, как будут жить люди, когда царица, моя воспитанница, будет царствовать над всеми? Смотри. Здание, громадное, громадное здание, каких теперь лишь по нескольку в самых больших столицах, — или нет, теперь ни одного такого! Оно стоит среди нив и лугов, садов и рощ. Нивы — это наши хлеба, только не такие, как у нас, а густые, густые, изобильные, изобильные. Неужели это пшеница? Кто ж видел такие колосья? Кто ж видел такие зерна? Только в оранжерее можно бы теперь вырастить такие колосья с такими зернами. Поля — это наши поля; но такие цветы теперь только в цветниках у нас. Сады, лимонные и апельсинные деревья, персики и абрикосы, — как же они растут на открытом воздухе? О, да это колонны вокруг них, это они открыты на лето; да, это оранжереи, раскрывающиеся на лето. Рощи — это наши рощи: дуб и липа, клен и вяз, — да, рощи те же, как теперь; за ними очень заботливый уход, нет в них ни одного больного дерева, но рощи те же, — только они и остались те же, как теперь. Но это здание, — что ж это, какой оно архитектуры? теперь нет такой; нет, уж есть один намек на нее, — дворец, который стоит на Сайденгамском холме: чугун и стекло, чугун и стекло — только. Нет, не только: это лишь оболочка здания, это его наружные стены; а там, внутри, уж настоящий дом, громаднейший дом: он покрыт этим чугунно-хрустальным зданием, как футляром; оно образует вокруг него широкие галереи по всем этажам. Какая легкая архитектура этого внутреннего дома, какие маленькие простенки между окнами, а окна огромные, широкие, во всю вышину этажей! его каменные стены — будто ряд пилястров, составляющих раму для окон, которые выходят на галерею. Но какие это полы и потолки? Из чего эти двери и рамы окон? Что это такое? серебро? платина? да и мебель почти вся такая же, — мебель из дерева тут лишь каприз, она только для разнообразия, но из чего ж вся остальная мебель, потолки и полы? «Попробуй подвинуть это кресло», — говорит старшая царица. Эта металлическая мебель легче нашей ореховой. Но что ж это за металл? Ах, знаю теперь, Саша показывал мне такую дощечку, она была легка, как стекло, и теперь уж есть такие серьги, брошки; да, Саша говорил, что, рано или поздно, алюминий заменит собою дерево, может быть, и камень. Но как же все это богато! Везде алюминий и алюминий, и все промежутки окон одеты огромными зеркалами. И какие ковры на полу! Вот в этом зале половина пола открыта, тут и видно, что он из алюминия. «Ты видишь, тут он матовый, чтобы не был слишком скользок, — тут играют дети, а вместе с ними и большие; вот и в том зале пол тоже без ковров, — для танцев». И повсюду южные деревья и цветы; весь дом — громадный зимний сад. Но кто же живет в этом доме, который великолепнее дворцов? «Здесь живет много, очень много; иди, мы увидим их». Они идут на балкон, выступающий из верхнего этажа галереи. Как же Вера Павловна не заметила прежде? «По этим нивам рассеяны группы людей; везде мужчины и женщины, старики, молодые и дети вместе. Но больше молодых; стариков мало, старух еще меньше, детей больше, чем стариков, но все-таки не очень много. Больше половины детей осталось дома заниматься хозяйством: они делают почти все по хозяйству, они очень любят это; с ними несколько старух. А стариков и старух очень мало потому, что здесь очень поздно становятся ими, здесь здоровая и спокойная жизнь; она сохраняет свежесть». Группы, работающие на нивах, почти все поют; но какой работою они заняты? Ах, это они убирают хлеб. Как быстро идет у них работа! Но еще бы не идти ей быстро, и еще бы не петь им! Почти все делают за них машины — и жнут, и вяжут снопы, и отвозят их, — люди почти только ходят, ездят, управляют машинами; и как они удобно устроили себе; день зноен, но им, конечно, ничего: над тою частью нивы, где они работают, раскинут огромный полог; как подвигается работа, подвигается и он, — как они устроили себе прохладу! Еще бы им не быстро и не весело работать, еще бы им не петь! Этак и я стала бы жать! И всё песни, всё песни, — незнакомые, новые; а вот припомнили и нашу; знаю ее:Будем жить с тобой по-пански;
Эти люди — нам друзья,
Что душе твоей угодно,
Все добуду с ними я...
9
Цветы завяли; листья начинают падать с деревьев; картина становится уныла. «Видишь, на это скучно было бы смотреть, тут было бы скучно жить, — говорит младшая сестра, — я так не хочу». — «Залы пусты, на полях и в садах тоже нет никого, — говорит старшая сестра, — я это устроила по воле своей сестры царицы». — «Неужели дворец в самом деле опустел?» — «Да, ведь здесь холодно и сыро, зачем же быть здесь? Здесь из двух тысяч человек осталось теперь десять — двадцать человек оригиналов, которым на этот раз показалось приятным разнообразием остаться здесь, в глуши, в уединении, посмотреть на северную осень. Через несколько времени, зимою, здесь будут беспрестанные смены, будут приезжать маленькими партиями любители зимних прогулок провести здесь несколько дней по-зимнему». «Но где ж они теперь?» — «Да везде, где тепло и хорошо, — говорит старшая сестра, — на лето, когда здесь много работы и хорошо, приезжает сюда множество всяких гостей с юга; мы были в доме, где вся компания из одних вас; но множество домов построено для гостей, в других и разноплеменные гости и хозяева поселяются вместе, кому как нравится, такую компанию и выбирает. Но, принимая летом множество гостей, помощников в работе, вы сами на семь-восемь плохих месяцев вашего года уезжаете на юг, — кому куда приятнее. Но есть у вас на юге и особая сторона, куда уезжает главная масса ваша. Эта сторона так и называется Новая Россия». — «Это где Одесса и Херсон?» — «Это в твое время, а теперь, смотри, вот где Новая Россия ». Горы, одетые садами; между гор узкие долины, широкие равнины. «Эти горы были прежде голые скалы, — говорит старшая сестра. — Теперь они покрыты толстым слоем земли, и на них среди садов растут рощи самых высоких деревьев: внизу во влажных ложбинах плантации кофейного дерева; выше финиковые пальмы, смоковницы; виноградники перемешаны с плантациями сахарного тростника; на нивах есть и пшеница, но больше рис». — «Что ж это за земля?» — «Поднимемся на минуту повыше, ты увидишь ее границы». На далеком северо-востоке две реки, которые сливаются вместе прямо на востоке от того места, с которого смотрит Вера Павловна; дальше к югу, все в том же юго-восточном направлении, длинный и широкий залив; на юге далеко идет земля, расширяясь все больше к югу между этим заливом и длинным узким заливом, составляющим ее западную границу. Между западным узким заливом и морем, которое очень далеко на северо-западе, узкий перешеек. «Но мы в центре пустыни?» — говорит изумленная Вера Павловна. «Да, в центре бывшей пустыни; а теперь, как видишь, все пространство с севера, от той большой реки на северо-востоке, уже обращено в благодатнейшую землю, в землю такую же, какою была когда-то и опять стала теперь та полоса по морю на север от нее, про которую говорилось в старину, что она „кипит молоком и медом“. Мы не очень далеко, ты видишь, от южной границы возделанного пространства, горная часть полуострова еще остается песчаною, бесплодною степью, какою был в твое время весь полуостров; с каждым годом люди, вы, русские, все дальше отодвигаете границу пустыни на юг. Другие работают в других странах: всем и много места, и довольно работы, и просторно, и обильно. Да, от большой северо-восточной реки все пространство на юг до половины полуострова зеленеет и цветет, по всему пространству стоят, как на севере, громадные здания, в трех, в четырех верстах друг от друга, будто бесчисленные громадные шахматы на исполинской шахматнице». — «Спустимся к одному из них», — говорит старшая сестра. Такой же хрустальный громадный дом, но колонны его белые. «Они потому из алюминия, — говорит старшая сестра, — что здесь ведь очень тепло, белое меньше разгорячается на солнце, это несколько дороже чугуна, но по-здешнему удобнее». Но вот что они еще придумали: на дальнее расстояние кругом хрустального дворца идут ряды тонких, чрезвычайно высоких столбов, и на них, высоко над дворцом, над всем дворцом и на полверсты вокруг него, растянут белый полог. «Он постоянно обрызгивается водою, — говорит старшая сестра, — видишь, из каждой колонны подымается выше полога маленький фонтан, разлетающийся дождем вокруг, поэтому жить здесь прохладно: ты видишь, они изменяют температуру, как хотят». — «А кому нравится зной и яркое здешнее солнце?» — «Ты видишь, вдали есть павильоны и шатры. Каждый может жить, как ему угодно; я к тому веду, я все для этого только и работаю». — «Значит, остались и города для тех, кому нравится в городах?» — «Не очень много таких людей; городов осталось меньше прежнего, — почти только для того, чтобы быть центрами сношений и перевозки товаров, у лучших гаваней, в других центрах сообщений, но эти города больше и великолепнее прежних; все туда ездят на несколько дней для разнообразия; большая часть их жителей беспрестанно сменяется, бывает там для труда, на недолгое время». — «Но кто хочет постоянно жить в них?» — «Живут, как вы живете в своих Петербургах, Парижах, Лондонах, — кому ж какое дело? кто станет мешать? Каждый живи, как хочешь; только огромнейшее большинство, девяносто девять человек из ста живут так, как мы с сестрою показываем тебе, потому что это им приятнее и выгоднее. Но иди же во дворец, уж довольно поздний вечер, пора смотреть на них». «Но нет, прежде я хочу же знать, как это сделалось?» — «Что?» — «То, что бесплодная пустыня обратилась в плодороднейшую землю, где почти все мы проводим две трети нашего года». — «Как это сделалось? да что ж тут мудреного? Ведь это сделалось не в один год и не в десять лет, я постепенно подвигала дело. С северо-востока, от берегов большой реки, с северо-запада, от прибрежья большого моря, — у них так много таких сильных машин, — возили глину, она связывала песок, проводили каналы, устраивали орошение, явилась зелень, явилось и больше влаги в воздухе; шли вперед шаг за шагом, по нескольку верст, иногда по одной версте в год, как и теперь всё идут больше на юг, что ж тут особенного? Они только стали умны, стали обращать на пользу себе громадное количество сил и средств, которые прежде тратили без пользы или и прямо во вред себе. Недаром же я работаю и учу. Трудно было людям только понять, что полезно, они были в твое время еще такими дикарями, такими грубыми, жестокими, безрассудными, но я учила, и учила их; а когда они стали понимать, исполнять было уже нетрудно. Я не требую ничего трудного, ты знаешь. Ты кое-что делаешь по-моему, для меня, — разве это дурно?» — «Нет». — «Конечно, нет. Вспомни же свою мастерскую, разве у вас было много средств? разве больше, чем у других?» — «Нет, какие ж у нас были средства?» — «А ведь твои швеи имеют в десять раз больше удобств, в двадцать раз больше радостей жизни, во сто раз меньше испытывают неприятного, чем другие, с такими же средствами, какие были у вас. Ты сама доказала, что и в твое время люди могут жить очень привольно. Нужно только быть рассудительными, уметь хорошо устроиться, узнать, как выгоднее употреблять средства». — «Так, так; я это знаю». — «Иди же еще посмотреть немножко, как живут люди через несколько времени после того, как стали понимать то, что давно понимала ты».10
Они входят в дом. Опять такой же громаднейший, великолепный зал. Вечер в полном своем просторе и веселье, прошло уж три часа после заката солнца: самая пора веселья. Как ярко освещен зал, чем же? — нигде не видно ни канделябров, ни люстр; ах, вот что! — в куполе зала большая площадка из матового стекла, через нее льется свет, — конечно, такой он и должен быть: совершенно, как солнечный, белый, яркий и мягкий, — ну да, это электрическое освещение. В зале около тысячи человек народа, но в ней могло бы свободно быть втрое больше. «И бывает, когда приезжают гости, — говорит светлая красавица, — бывает и больше». — «Так что ж это? разве не бал? Это разве простой будничный вечер?» — «Конечно». — «А по-нынешнему, это был бы придворный бал, так роскошна одежда женщин; да, другие времена, это видно и по покрою платьев. Есть несколько дам и в нашем платье, но видно, что они оделись так для разнообразия, для шутки; да, они дурачатся, шутят над своим костюмом; на других другие, самые разнообразные костюмы, разных восточных и южных покроев, все они грациознее нашего; но преобладает костюм, похожий на тот, какой носили гречанки в изящнейшее время Афин, — очень легкий и свободный, и на мужчинах тоже широкое, длинное платье без талии, что-то вроде мантий и матиев, видно, что это обыкновенный домашний костюм их, как это платье скромно и прекрасно! Как мягко и изящно обрисовывает оно формы, как возвышает оно грациозность движений! И какой оркестр, более ста артистов и артисток, но, особенно, какой хор!» — «Да, у вас в целой Европе не было десяти таких голосов, каких ты в одном этом зале найдешь целую сотню, и в каждом другом столько же: образ жизни не тот, очень здоровый и вместе изящный, потому и грудь лучше, и голос лучше», — говорит светлая царица. Но люди в оркестре и в хоре беспрестанно меняются: одни уходят, другие становятся на их место, — они уходят танцевать, они приходят из танцующих. У них вечер, будничный, обыкновенный вечер, они каждый вечер так веселятся и танцуют; но когда же я видела такую энергию веселья? но как и не иметь их веселью энергии, неизвестной нам? — Они поутру наработались. Кто не наработался вдоволь, тот не приготовил нерв, чтобы чувствовать полноту веселья. И теперь веселье простых людей, когда им удается веселиться, более радостно, живо и свежо, чем наше; но у наших простых людей скудны средства для веселья, а здесь средства богаче, нежели у нас; и веселье наших простых людей смущается воспоминанием неудобств и лишений, бед и страданий, смущается предчувствием того же впереди, — это мимолетный час забытья нужды и горя, — а разве нужда и горе могут быть забыты вполне? разве песок пустыни не заносит? разве миазмы болота не заражают и небольшого клочка хорошей земли с хорошим воздухом, лежащего между пустынею и болотом? А здесь нет ни воспоминаний, ни опасений нужды или горя; здесь только воспоминания вольного труда в охоту, довольства, добра и наслаждения, здесь и ожидания только все того же впереди. Какое же сравнение! И опять: у наших рабочих людей нервы только крепки, потому способны выдерживать много веселья, но они у них грубы, не восприимчивы. А здесь: нервы и крепки, как у наших рабочих людей, и развиты, впечатлительны, как у нас; приготовленность к веселью, здоровая, сильная жажда его, какой нет у нас, какая дается только могучим здоровьем и физическим трудом, в этих людях соединяется со всею тонкостью ощущений, какая есть в нас; они имеют все наше нравственное развитие вместе с физическим развитием крепких наших рабочих людей: понятно, что их веселье, что их наслаждение, их страсть — все живее и сильнее, шире и сладостнее, чем у нас. Счастливые люди! Нет, теперь еще не знают, что такое настоящее веселье, потому что еще нет такой жизни, какая нужна для него, и нет таких людей. Только такие люди могут вполне веселиться и знать весь восторг наслажденья! Как они цветут здоровьем и силою, как стройны и грациозны они, как энергичны и выразительны их черты! Все они — счастливые красавцы и красавицы, ведущие вольную жизнь труда и наслаждения, — счастливцы, счастливцы! Шумно веселится в громадном зале половина их, а где ж другая половина? «Где другие? — говорит светлая царица. — Они везде; многие в театре, одни актерами, другие музыкантами, третьи зрителями, как нравится кому; иные рассеялись по аудиториям, музеям, сидят в библиотеке; иные в аллеях сада, иные в своих комнатах, или чтобы отдохнуть наедине, или с своими детьми, но больше, больше всего — это моя тайна. Ты видела в зале, как горят щеки, как блистают глаза; ты видела — они уходили, они приходили; они уходили — это я увлекла их, здесь комната каждого и каждой — мой приют, в них мои тайны ненарушимы, занавесы дверей, роскошные ковры, поглощающие звук, там тишина, там тайна; они возвращались — это я возвращала их из царства моих тайн на легкое веселье. Здесь царствую я. Я царствую здесь. Здесь всё для меня! Труд — заготовление свежести чувств и сил для меня, веселье — приготовления ко мне, отдых после меня. Здесь я — цель жизни, здесь я — вся жизнь».11
«В моей сестре, царице, высшее счастие жизни, — говорит старшая сестра, — но ты видишь, здесь всякое счастье, какое кому надобно. Здесь все живут, как лучше кому жить, здесь всем и каждому — полная воля, вольная воля. То, что мы показали тебе, не скоро будет в полном своем развитии, какое видела теперь ты. Сменится много поколений, прежде чем вполне осуществится то, что ты предощущаешь. Нет, не много поколений: моя работа идет теперь быстро, все быстрее с каждым годом, но все-таки ты еще не войдешь в это полное царство моей сестры; по крайней мере, ты видела его, ты знаешь будущее. Оно светло, оно прекрасно. Говори же всем: вот что в будущем, будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести: настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умеете перенести в нее из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее все, что можете перенести».Каждый, кто читал произведение Чернышевского «Что делать?», наверняка отметил своеобразие композиционного построения романа. Автор делится с читателями своими мыслями, рассказывает о своих идеалах посредством описания снов главной героини. Все они воспринимаются не буквально и таят в себе скрытый смысл.
О чем? Героиня была в заточении в подвале, но внезапно высвободилась из плена и оказалась в поле, где желтели спелые колосья. Одновременно с этим переходом случилось выздоровление Веры: она как будто была больна параличом, но после освобождения стала чувствовать себя лучше. С ней заговорила женщина, «невеста ее жениха», в этом образе автор изобразил любовь к людям. Девушка отправляется гулять по улицам города, помогая всем встречным, ведь новая знакомая просила ее выпускать девушек из подвалов и лечить их.
Смысл. Этот сон означает освобождение Веры из среды вульгарных и ограниченных людей старой формации. Подземелье – символ «темного царства», где темнота – невежество, а духота – несвобода. Родители героини – рабы условностей и стереотипов, недаром мать учит дочь соблазнять богатого человека и выходить замуж по расчету. В их мире женщина больше ни на что не способна. Покинув семью, Вера испытывает облегчение: ей больше не надо пытаться продать себя. Если раньше она жила в страхе и злобе из-за постоянного давления матери, то после освобождения к ней действительно приходит любовь к человечеству. Она узнает, что на Земле есть другие люди, не пошлые и не глупые. К ним она и подходит на улицах во сне, испытывая радость. «Любовь к людям» называет себя «невестой жениха Веры», потому что именно Лопухов открывает героине новый мир. Просьба выпускать всех девушек вдохновит героиню на создание швейной мастерской.
Второй сон
О чем? Лопухов и Мерцалов идут в поле, где говорят о реальной и фантастической грязи. В первой протекает здоровая и естественная жизнь, появляются колосья, а вторая – гнилая и фальшивая, в нет плодородия и сути. Во время этого разговора девушка видит свою мать, погрязшую в бедности и неусыпных заботах о пропитании для семьи. Зато в тот момент на лице изнуренной женщины просветлела улыбка. Потом Вера видит, будто она сидит на коленях у офицера. Это видение сменяется сценой, где героиня не может устроиться на работу. Старая знакомая девушки, Любовь к людям, объясняет, как важно Вере простить свою мать за злость и жестокость: Марья Алексеевна всю жизнь положила на то, чтобы вывести семью из нищеты, поэтому она и ожесточилась на мир, что поставил ее в такие трудные условия.
О чем? Певица Бозио берет в руки несуществующий в реальности дневник Веры и читает его вместе с ней. Там изложены подробности отношений героини с Лопуховым. Из последней страницы, которую девушка боится открывать, становится ясно, что она хочет, но не может любить супруга. Она уважает и ценит его, но их чувства – всего лишь дружеская привязанность. Вера любит Кирсанова.
Смысл. В этом сновидении героиня постигает истинную природу своих чувств и приходит к выводу, что должна свободно распоряжаться собой, несмотря на узы брака. Главное – это сердечная склонность, и если она изменилась, нужно следовать за ней, а не блюсти формальные приличия из-за боязни общественного порицания. Это один из важнейших элементов эмансипации, который делает женщину полноправной хозяйкой своего тела и своей души. Она вправе решать, с кем ей быть.
Четвертый сон
О чем? Вера видит всевозможных богинь в хронологическом порядке: языческую Астарту, древнегреческую Афродиту, «Непорочность», как отражение Богоматери и т.д. Сквозь парад богинь ее ведет красавица, в которой Вера узнает себя – раскрепощенную и независимую повелительницу нового времени. Также перед ней появляется своеобразный райский сад, где труд доброволен, все равны, свободны, никто никого и ни к чему не принуждает.
Смысл. В этом сне автор изобразил общество будущего, где главенствуют социалистический принципы «свободы, равенства и братства». Все богини отражают социальную роль женщины, которая меняется со временем: от предмета наслаждения и восхищения до вполне логичного финала – эмансипации, когда дамы становятся полноправными членами общества и носительницами многообразных социальных ролей. Если Афродита – лишь развлечение для мужчин, а Непорочность – их собственность и репродуктивный орган, то сама Вера – это независимая, умная и развитая дама, которая равна сильному полу, а не принижена и использована им.
Если первый сон представляет собой символическую картину: не только героиня покидает старый мир, но и все девушки «из подвала», наконец, вырываются на свободу, то эмансипированными они становятся уже в четвёртом сне – такой же символической картине. Обновляется всё человечество, пережитки прошлого умирают. Мы понимаем, что писатель верил в вероятность наступления светлого будущего, и что каждый, кто мог видеть такие сны, каким-то образом приближал миг всеобщего счастья и свободы.
Интересно? Сохрани у себя на стенке!холодно и сыро, зачем же быть здесь? Здесь из 2 000 человек осталось теперь
десять - двадцать человек оригиналов, которым на этот раз показалось
приятным разнообразием остаться здесь, в глуши, в уединении, посмотреть на
северную осень. Через несколько времени, зимою, здесь будут беспрестанные
смены, будут приезжать маленькими партиями любители зимних прогулок,
провести здесь несколько дней по-зимнему".
Но где ж они теперь? - "Да везде, где тепло и хорошо, - говорит
старшая сестра: - на лето, когда здесь много работы и хорошо, приезжает сюда
множество всяких гостей с юга; мы были в доме, где вся компания из одних
вас; но множество домов построено для гостей, в других и разноплеменные
гости и хозяева поселяются вместе, кому как нравится, такую компанию и
выбирает. Но принимая летом множество гостей, помощников в работе, вы сами
на 7-8 плохих месяцев вашего года уезжаете на юг, - кому куда приятнее. Но
есть у вас на юге и особая сторона, куда уезжает главная масса ваша. Эта
сторона так и называется Новая Россия". - "Это где Одесса и Херсон?" - "Это
в твое время, а теперь, смотри, вот где Новая Россия".
Горы, одетые садами; между гор узкие долины, широкие равнины. "Эти горы
были прежде голые скалы, - говорит старшая сестра. - Теперь они покрыты
толстым слоем земли, и на них среди садов растут рощи самых высоких
деревьев: внизу во влажных ложбинах плантации кофейного дерева; выше
финиковые пальмы, смоковницы; виноградники перемешаны с плантациями
сахарного тростника; на нивах есть и пшеница, но больше рис". - "Что ж это
за земля?" - "Поднимемся на минуту повыше, ты увидишь ее границы". На
далеком северо-востоке две реки, которые сливаются вместе прямо на востоке
от того места, с которого смотрит Вера Павловна; дальше к югу, все в том же
юго-восточном направлении, длинный и широкий залив; на юге далеко идет
земля, расширяясь все больше к югу между этим заливом и длинным узким
заливом, составляющим ее западную границу. Между западным узким заливом и
морем, которое очень далеко на северо-западе, узкий перешеек. "Но мы в
центре пустыни?" - говорит изумленная Вера Павловна. "Да, в центре бывшей
пустыни; а теперь, как видишь, все пространство с севера, от той большой
реки на северо-востоке, уже обращено в благодатнейшую землю, в землю такую
же, какою была когда-то и опять стала теперь та полоса по морю на север от
нее, про которую говорилось в старину, что она "кипит молоком и медом"
{149}. Мы не очень далеко, ты видишь, от южной границы возделанного
пространства, горная часть полуострова еще остается песчаною, бесплодною
степью, какою был в твое время весь полуостров; с каждым годом люди, вы
других странах: всем и много места, и довольно работы, и просторно, и
обильно. Да, от большой северо-восточной реки все пространство на юг до
половины полуострова зеленеет и цветет, по всему пространству стоят, как на
севере, громадные здания в трех, в четырех верстах друг от друга, будто
бесчисленные громадные шахматы на исполинской шахматнице. "Спустимся к
одному из них", - говорит старшая сестра.
Такой же хрустальный громадный дом, но колонны его белые. "Они потому
из алюминия, - говорит старшая сестра, - что здесь ведь очень тепло, белое
меньше разгорячается на солнце, что несколько дороже чугуна, но по-здешнему
удобнее". Но вот что они еще придумали: на дальнее расстояние кругом
хрустального дворца идут ряды тонких, чрезвычайно высоких столбов, и на них,
высоко над дворцом, над всем дворцом и на, полверсты вокруг него растянут
белый полог. "Он постоянно обрызгивается водою, - говорит старшая сестра: -
видишь, из каждой колонны подымается выше полога маленький фонтан,
разлетающийся дождем вокруг, поэтому жить здесь прохладно; ты видишь, они
изменяют температуру, как хотят". - "А кому нравится зной и яркое здешнее
солнце?" - "Ты видишь, вдали есть павильоны и шатры. Каждый может жить, как
ему угодно; я к тому веду, я все для этого только и работаю". - "Значит,
остались и города для тех, кому нравится в городах?" - "Не очень много таких
людей; городов осталось меньше прежнего, - почти только для того, чтобы быть
центрами сношений и перевозки товаров, у лучших гаваней, в других центрах
сообщений, но эти города больше и великолепнее прежних; все туда ездят на
несколько дней для разнообразия; большая часть их жителей беспрестанно
сменяется, бывает там для труда, на недолгое время". - "Но кто хочет
постоянно жить в них?" - "Живут, как вы живете в своих Петербургах, Парижах,
Лондонах, - кому ж какое дело? кто станет мешать? Каждый живи, как хочешь;
только огромнейшее большинство, 99 человек из 100, живут так, как мы с
сестрою показываем тебе, потому что это им приятнее и выгоднее. Но иди же во
дворец, уж довольно поздний вечер, пора смотреть на них".
Но нет, прежде я хочу же знать, как это сделалось?" - "Что?" - "То,
что бесплодная пустыня обратилась в плодороднейшую землю, где почти все мы
проводим две трети нашего года". - "Как это сделалось? да что ж тут
мудреного? Ведь это сделалось не в один год, и не в десять лет, я постепенно
подвигала дело. С северо-востока, от берегов большой реки, с северо-запада,
от прибережья большого моря, - у них так много таких сильных машин, - возили
глину, она связывала песок, проводили каналы, устраивали орошение, явилась
зелень, явилось и больше влаги в воздухе; шли вперед шаг за шагом, по
нескольку верст, иногда по одной версте в год, как и теперь все идут больше
на юг, что ж тут особенного? Они только стали умны, стали обращать на пользу
себе громадное количество сил и средств, которые прежде тратили без пользы
или и прямо во вред себе. Недаром же я работаю и учу. Трудно было людям
только понять, что полезно, они были в твое время еще такими дикарями,
такими грубыми, жестокими, безрассудными, но я учила и учила их; а когда они
стали понимать, исполнять было уже не трудно. Я не требую ничего трудного,
ты знаешь. Ты кое-что делаешь по-моему, для меня, - разве это дурно?" "Нет".
- "Конечно, нет. Вспомни же свою мастерскую, разве у вас было много средств?
разве больше, чем у других?" - "Нет, какие ж у нас были средства?" - "А ведь
твои швеи имеют в десять раз больше удобств, в двадцать раз больше радостей
жизни, во сто раз меньше испытывают неприятного, чем другие, с такими же
средствами, какие были у вас. Ты сама доказала, что и в твое время люди
могут жить очень привольно. Нужно только быть рассудительными, уметь хорошо
устроиться, узнать, как выгоднее употреблять средства". - "Так, так; я это
знаю". - "Иди же еще посмотреть немножко, как живут люди через несколько
времени после того, как стали понимать то, что давно понимала ты".
Они входят в дом. Опять такой же громаднейший, великолепный зал. Вечер
в полном своем просторе и веселье, прошло уж три часа после заката солнца:
самая пора веселья. Как ярко освещен зал, чем же? - нигде не видно ни
канделябров, ни люстр; ах, вот что! - в куполе зала большая площадка из
матового стекла, через нее льется свет, - конечно, такой он и должен быть:
совершенно, как солнечный, белый, яркий и мягкий, - ну, да, это
электрическое освещение {149a}. В зале около тысячи человек народа, но в ней
могло бы свободно быть втрое больше. "И бывает, когда приезжают гости, -
говорит светлая красавица, - бывает и больше". - "Так что ж это? разве не
бал? Это разве простой будничный вечер?" - "Конечно". - "А по-нынешнему, это
был бы придворный бал, как роскошна одежда женщин, да, другие времена, это
видно и по покрою платья. Есть несколько дам и в нашем платье, но видно, что
они оделись так для разнообразия, для шутки; да, они дурачатся, шутят над
своим костюмом; на других другие, самые разнообразные костюмы разных
восточных и южных покроев, все они грациознее нашего; но преобладает костюм,
похожий на тот, какой носили гречанки в изящнейшее время Афин - очень легкий
и свободный, и на мужчинах тоже широкое, длинное платье без талии, что-то
вроде мантий, иматиев; видно, что это обыкновенный домашний костюм их, как
это платье скромно и прекрасно! Как мягко и изящно обрисовывает оно формы,
как возвышает оно грациозность движений! И какой оркестр, более ста артистов
и артисток, но особенно, какой хор!" - "Да, у вас в целой Европе не было
каждом другом столько же: образ жизни не тот, очень здоровый и вместе
люди в оркестре и в хоре беспрестанно меняются: одни уходят, другие
становятся на их место, - они уходят танцовать, они приходят из танцующих.
У них вечер, будничный, обыкновенный вечер, они каждый вечер так
веселятся и танцуют; но когда же я видела такую энергию веселья? но как и не
иметь их веселью энергии, неизвестной нам? - Они поутру наработались. Кто не
наработался вдоволь, тот не приготовил нерв, чтобы чувствовать полноту
веселья. И теперь веселье простых людей, когда им удается веселиться, более
радостно, живо и свежо, чем наше; но у наших простых людей скудны средства
для веселья, а здесь средства богаче, нежели у нас; и веселье наших простых
людей смущается воспоминанием неудобств и лишений, бед и страданий,
смущается предчувствием того же впереди, - это мимолетный час забытья нужды
и горя - а разве нужда и горе могут быть забыты вполне? разве песок пустыни
не заносит? разве миазмы болота не заражают и небольшого клочка хорошей
земли с хорошим воздухом, лежащего между пустынею и болотом? А здесь нет ни
воспоминаний, ни опасений нужды или горя; здесь только воспоминания вольного
труда в охоту, довольства, добра и наслаждения, здесь и ожидания только все
того же впереди. Какое же сравнение! И опять: у наших рабочих людей нервы
только крепки, потому способны выдерживать много веселья, но они у них
грубы, не восприимчивы. А здесь: нервы и крепки, как у наших рабочих людей,
и развиты, впечатлительны, как у нас; приготовленность к веселью, здоровая,
сильная жажда его, какой нет у нас, какая дается только могучим здоровьем и
физическим трудом, в этих людях соединяется со всею тонкостью ощущений,
какая есть в нас; они имеют все наше нравственное развитие вместе с
физическим развитием крепких наших рабочих людей: понятно, что их веселье,
что их наслаждение, их страсть - все живее и сильнее, шире и сладостнее, чем
у нас. Счастливые люди!
Нет, теперь еще не знают, что такое настоящее веселье, потому что еще
нет такой жизни, какая нужна для него, и нет таких людей. Только такие люди
могут вполне веселиться и знать весь восторг наслажденья! Как они цветут
здоровьем и силою, как стройны и грациозны они, как энергичны и выразительны
их черты! Все они - счастливые красавцы и красавицы, ведущие вольную жизнь
труда и наслаждения, - счастливцы, счастливцы!
Шумно веселится в громадном зале половина их, а где ж другая половина?
"Где другие? - говорит светлая царица, - они везде; многие в театре, одни
актерами, другие музыкантами, третьи зрителями, как нравится кому; иные
рассеялись по аудиториям, музеям, сидят в библиотеке; иные в аллеях сада,
иные в своих комнатах или чтобы отдохнуть наедине, или с своими детьми, но
больше, больше всего - это моя тайна. Ты видела в зале, как горят щеки, как
блистают глаза; ты видела, они уходили, они приходили; они уходили - это я
увлекала их, здесь комната каждого и каждой - мой приют, в них мои тайны
ненарушимы, занавесы дверей, роскошные ковры, поглощающие звук, там тишина,
там тайна; они возвращались - это я возвращала их из царства моих тайн на
легкое веселье Здесь царствую я".
"Я царствую здесь. Здесь все для меня! Труд - заготовление свежести
чувств и сил для меня, веселье - приготовление ко мне, отдых после меня.
Здесь я - цель жизни, здесь я - вся жизнь".
"В моей сестре, царице, высшее счастие жизни, - говорит старшая сестра,
Но ты видишь, здесь всякое счастие, какое кому надобно. Здесь все живут,
как лучше кому жить, здесь всем и каждому - полная воля, вольная воля".
"То, что мы показали тебе, нескоро будет в полном своем развитии, какое
видела теперь ты. Сменится много поколений прежде, чем вполне осуществится
то, что ты предощущаешь. Нет, не много поколений: моя работа идет теперь
быстро, все быстрее с каждым годом, но все-таки ты еще не войдешь в это
полное царство моей сестры; по крайней мере, ты видела его, ты знаешь
будущее. Оно светло, оно прекрасно. Говори же всем: вот что в будущем,
будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для
него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете
перенести: настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением
ваша жизнь, насколько вы умеете перенести в нее из будущего. Стремитесь к
нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее
все, что можете перенести".
Через год новая мастерская уж совершенно устроилась, установилась. Обе
мастерские были тесно связаны между собою, передавали одна другой заказы,
когда одна была завалена ими, а другая имела время исполнить их. Между ними
был текущий счет. Размер их средств был уже достаточен, чтобы они могли
открыть магазин на Невском, если сблизятся между собою еще больше. Устроить
это стоило довольно много хлопот Вере Павловне и Мерцаловой. Хотя их
компании были дружны, хотя часто одна компания принимала у себя в гостях
другую, хотя часто они соединялись для поездок за город, но все-таки мысль о
солидарности счетов двух разных предприятий была мысль новая, которую
надобно было долго и много разъяснять. Однако же, выгода иметь на Невском
свой магазин была очевидна, и после нескольких месяцев забот о слиянии двух
счетоводств прихода в одно Вере Павловне и Мерцаловой удалось достичь этого.
На Невском явилась новая вывеска: "Au bon travail. Magasin des Nouveautes"
{150}. С открытием магазина дела стали развиваться быстрее прежнего и
становились все выгоднее. Мерцалова и Вера Павловна уже мечтали в своих
разговорах, что года через два вместо двух швейных будет четыре, пять, а там
скоро и десять, и двадцать.
Месяца через три по открытии магазина приехал к Кирсанову один отчасти
знакомый, а больше незнакомый собрат его по медицине, много рассказывал о
разных медицинских казусах, всего больше об удивительных успехах своей
методы врачевания, состоявшей в том, чтобы класть вдоль по груди и по животу
два узенькие и длинные мешочка, наполненные толченым льдом {151} и
завернутые каждый в четыре салфетки, а в заключение всего сказал, что один
из его знакомых желает познакомиться с Кирсановым {152}.
Кирсанов исполнил желание; знакомство было приятное, был разговор о
многом, между прочим, о магазине. Объяснил, что магазин открыт, собственно,
с торговою целью; долго говорили о вывеске магазина, хорошо ли, что на
вывеске написано travail. Кирсанов говорил, что travail значит труд, Au bon
travail - магазин, хорошо исполняющий заказы; рассуждали о том, не лучше ли
было бы заменить такой девиз фамилиею. Кирсанов стал говорить, что русская
фамилия его жены наделает коммерческого убытка; наконец, придумал такое
средство: его жену зовут "Вера" - по-французски вера - foi; если бы на
вывеске можно было написать вместо Au bon travail - A la bonne foi, то не
было ли бы достаточно этого? - Это бы имело самый невинный смысл -
"добросовестный магазин", и имя хозяйки было бы на вывеске; рассудивши,
увидели, что это можно. Кирсанов с особенным усердием обращал разговор на
такие вопросы и вообще успевал в этом, так что возвратился домой очень
довольный.
Но во всяком случае Мерцалова и Вера Павловна значительно поурезали
крылья своим мечтам и стали заботиться о том, чтобы хотя удержаться на
месте, а уж не о том, чтоб идти вперед.
Таким образом, по охлаждении лишнего жара в Вере Павловне и Мерцаловой,
швейные и магазин продолжали существовать, не развиваясь, но радуясь уже и
тому, что продолжают существовать. Новое знакомство Кирсанова продолжалось и
приносило ему много удовольствия. Так прошло еще года два или больше, без
всяких особенных происшествий.
Письмо Катерины Васильевны Полозовой
Милая Полина, мне так понравилась совершенно новая вещь, которую я
недавно узнала и которой теперь сама занимаюсь с большим усердием, что я
хочу описать ее тебе. Я уверена, что ты также заинтересуешься ею. Но
главное, ты сама, быть может, найдешь возможность заняться чем-нибудь
подобным. Это так приятно, мой друг.
Вещь, которую я хочу описать для тебя - швейная; собственно говоря, две
швейные, обе устроенные по одному принципу женщиною, с которою познакомилась
я всего только две недели тому назад, но уж успела очень подружиться. Я
теперь помогаю ей, с тем условием, чтобы она потом помогла мне устроить еще
такую же швейную. Эта дама Вера Павловна Кирсанова, еще молодая, добрая,
веселая, совершенно в моем вкусе, то есть, больше похожа на тебя, Полина,
чем на твою Катю, такую смирную: она бойкая и живая госпожа. Случайно
услышав о ее мастерской, - мне сказывали только об одной, - я прямо приехала
заинтересовалась ее швейною. Мы сошлись с первого же раза, тем больше, что в
Кирсанове, ее муже, я нашла того самого доктора Кирсанова, который пять лет
тому назад оказал мне, помнишь, такую важную услугу.
Поговоривши со мною с полчаса и увидев, что я, действительно,
сочувствую таким вещам, Вера Павловна повела меня в свою мастерскую, ту,
которою она сама занимается (другую, которая была устроена прежде, взяла на
себя одна из ее близких знакомых, тоже очень хорошая молодая дама), и я
перескажу тебе впечатления моего первого посещения; они были так новы и
поразительны, что я тогда же внесла их в свой дневник, который был давно
брошен, но теперь возобновился по особенному обстоятельству, о котором, быть
может, я расскажу тебе через несколько времени. Я очень довольна, что эти
впечатления были тогда записаны мною: теперь я и забыла бы упомянуть о
многом, что поразило меня тогда, а нынче, только через две недели, уже
кажется самым обыкновенным делом, которое иначе и не должно быть. Но чем
обыкновеннее становится эта вещь, тем больше я привязываюсь к ней, потому
что она очень хороша. Итак, Полина, я начинаю выписку из моего дневника,
дополняя подробностями, которые узнала после.
Швейная мастерская, - что же такое увидела я, как ты думаешь? Мы
остановились у подъезда, Вера Павловна повела меня по очень хорошей
лестнице, знаешь, одной из тех лестниц, на которых нередко встречаются
швейцары. Мы вошли на третий этаж, Вера Павловна позвонила, и я увидела себя
в большом зале, с роялем, с порядочною мебелью, - словом, зал имел такой
вид, как будто мы вошли в квартиру семейства, проживающего 4 или 5 тысяч
рублей в год. - Это мастерская? И это одна из комнат, занимаемых швеями?
"Да; это приемная комната и зал для вечерних собраний; пойдемте по тем
комнатам, в которых, собственно, живут швеи, они теперь в рабочих комнатах,
и мы никому не помешаем". - Вот что увидела я, обходя комнаты, и что
пояснила мне Вера Павловна.
Помещение мастерской составилось из трех квартир, выходящих на одну
площадку и обратившихся в одну квартиру, когда пробили двери из одной в
другую. Квартиры эти прежде отдавались за 700, 550 и 425 руб. в год, всего
за 1675 руб. Но отдавая все вместе по контракту на 5 лет, хозяин дома
согласился уступить их за 1 250 руб. Всего в мастерской 21 комната, из них 2
очень большие, по 4 окна, одна служит приемною, другая - столовою; в двух
других, тоже очень больших, работают; в остальных живут. Мы прошли 6 или 7
комнат, в которых живут девушки (я все говорю про первое мое посещение);
меблировка этих комнат тоже очень порядочная, красного дерева или ореховая;
в некоторых есть стоячие зеркала, в других - очень хорошие трюмо; много
кресел, диванов хорошей работы. Мебель в разных комнатам разная, почти вся
она постепенно покупалась по случаям, за дешевую цену. Эти комнаты, в
которых живут, имеют такой вид, как в квартирах чиновничьих семейств средней
руки, в семействах старых начальников отделения или молодых
столоначальников, которые скоро будут начальниками отделения. В комнатах,
которые побольше, живут три девушки, в одной даже четыре, в других по две.
Мы вошли в рабочие комнаты, и девушки, занимавшиеся в них, тоже
показались мне одеты как дочери, сестры, молодые жены этих чиновников: на
одних были шелковые платья, из простеньких шелковых материй, на других
барежевые {153}, кисейные. Лица имели ту мягкость и нежность, которая
развивается только от жизни в довольстве. Ты можешь представить, как это все
удивляло меня. В рабочих комнатах мы оставались долго. Я тут же
познакомилась с некоторыми из девушек; Вера Павловна сказала цель моего
посещения: степень их развития была неодинакова; одни говорили уже
совершенно языком образованного общества, были знакомы с литературою, как
наши барышни, имели порядочные понятия и об истории, и о чужих землях, и обо
всем, что составляет обыкновенный круг понятий барышень в нашем обществе;
две были даже очень начитаны. Другие, не так давно поступившие в мастерскую,
были менее развиты, но все-таки с каждою из них можно было говорить, как с
девушкою, уже имеющею некоторое образование. Вообще степень развития
соразмерна тому, как давно которая из них живет в мастерской.
Вера Павловна занималась делами, иногда подходила ко мне, а я говорила
с девушками, и таким образом мы дождались обеда. Он состоит, по будням, из
трех блюд. В тот день был рисовый суп, разварная рыба и телятина. После
обеда на столе явились чай и кофе. Обед был настолько хорош, что я поела со
вкусом и не почла бы большим лишением жить на таком обеде.
А ты знаешь, что мой отец и теперь имеет хорошего повара.
Вот какое было общее впечатление моего первого посещения. Мне сказали,
и я знала, что я буду в мастерской, в которой живут швеи, что мне покажут
комнаты швей; что я буду видеть швей, что я буду сидеть за обедом швей;
вместо того я видела квартиры людей не бедного состояния, соединенные в одно
помещение, видела девушек среднего чиновничьего или бедного помещичьего
круга, была за обедом, небогатым, но удовлетворительным для меня; - что ж
это такое? и как же это возможно?
Когда мы возвратились к Вере Павловне, она и ее муж объяснили мне, что
это вовсе не удивительно. Между прочим, Кирсанов тогда написал мне для
примера небольшой расчет на лоскутке бумаги, который уцелел между страниц
моего дневника. Я перепишу тебе его; но прежде еще несколько слов.
Вместо бедности - довольство; вместо грязи - не только чистота, даже
некоторая роскошь комнат; вместо грубости - порядочная образованность; все
это происходит от двух причин: с одной стороны, увеличивается доход швей, с
другой - достигается очень большая экономия в их расходах.
Ты понимаешь, отчего они получают больше дохода: они работают на свой
собственный счет, они сами хозяйки; потому они получают ту долю, которая
оставалась бы в прибыли у хозяйки магазина. Но это не все: работая в свою
собственную пользу и на свой счет, они гораздо бережливее и на материал
работы и на время: работа идет быстрее, и расходов на нее меньше.
Понятно, что и в расходах на их жизнь много сбережений. Они покупают
все большими количествами, расплачиваются наличными деньгами, поэтому вещи
достаются им дешевле, чем при покупке в долг и по мелочи; вещи выбираются
внимательно, с знанием толку в них, со справками, поэтому все покупается не
только дешевле, но и лучше, нежели вообще приходится покупать бедным людям.
Кроме того, многие расходы или чрезвычайно уменьшаются, или становятся
вовсе ненужны. Подумай, например: каждый день ходить в магазин за 2, за 3
версты - сколько изнашивается лишней обуви, лишнего платья от этого. Приведу
тебе самый мелочной пример, но который применяется ко всему в этом
отношении.
Если не иметь дождевого зонтика, это значит много терять от порчи
платья дождем. Теперь, слушай слова, сказанные мне Верой Павловною. Простой
холщевый зонтик стоит, положим, 2 рубля. В мастерской живет 25 швей. На
зонтик для каждой вышло бы 5О р., та, которая не имела бы зонтика, терпела
бы потери в платье больше, чем на 2 руб. Но они живут вместе; каждая выходит
из дому только, когда ей удобно; поэтому не бывает того, чтобы в дурную
погоду многие выходили из дому. Они нашли, что 5 дождевых зонтиков
совершенно довольно. Эти зонтики шелковые, хорошие; они стоят по 5 руб.
Всего расхода на дождевые зонтики - 25 руб., или у каждой швеи - по 1 руб.
Ты видишь, что каждая из них пользуется хорошею вещью вместо дрянной и
все-таки имеет вдвое меньше расхода на эту вещь. Так с множеством мелочей,
которые вместе составляют большую важность. То же с квартирою, со столом.
Например, этот обед, который я тебе описала, обошелся в 5 руб. 50 коп. или 5
руб. 75 коп., с хлебом (но без чаю и кофе). А за столом было 37 человек (не
считая меня, гостьи, и Веры Павловны), правда, в том числе нескольких детей.
5 руб. 75 коп. на 37 человек это составляет менее 16 коп. на человека, менее
5 р. в месяц. А Вера Павловна говорит, что если человек обедает один, он на
эти деньги не может иметь почти ничего, кроме хлеба и той дряни, которая
продается в мелочных лавочках. В кухмистерской такой обед (только менее
чисто приготовленный) стоит, по словам Веры Павловны, 40 коп. сер., - за 30
коп. гораздо хуже. Понятна эта разница: кухмистер, готовя обед на 20 человек
или меньше, должен сам содержаться из этих денег, иметь квартиру, иметь
прислугу. Здесь этих лишних расходов почти вовсе нет, или они гораздо
меньше. Жалованье двум старушкам, родственницам двух швей, вот и весь расход
сделал мне для примера Кирсанов, когда я была у них в первый раз. Написавши
его, он сказал мне:
Конечно, я не могу сказать вам точных цифр, да и трудно было бы найти
их, потому что, вы знаете, у каждого коммерческого дела, у каждого магазина,
каждой мастерской свои собственные пропорции между разными статьями дохода и
расхода, в каждом семействе также свои особенные степени экономности в
делании расходов и особенные пропорции между разными статьями их. Я ставлю
цифры только для примера: но чтобы счет был убедительнее, я ставлю цифры,
которые менее действительной выгодности нашего порядка, сравнительно с
настоящими расходами почти всякого коммерческого дела и почти всякого
мелкого, бедного хозяйства.
Доход коммерческого предприятия от продажи товаров, - продолжал
Кирсанов, - распадается на три главные части: одна идет на жалованье
рабочим; другая - на остальные расходы предприятия: наем помещения,
освещение, материалы для работы; третья остается в прибыль хозяину. Положим,